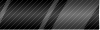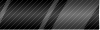| Номинированная на Золотую пальмовую ветвь картина Чарли Кауфмана «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 9 апреля (почти год спустя после мировой премьеры) выходит в российский прокат. Режиссерский дебют сценариста Чарли Кауфмана в оригинале носит название «Синекдоха, Нью-Йорк». Эта философская картина эпического размаха и хронометража пытается затронуть все самые болезненные вопросы – о старении, смерти и творческом застое, любви, измене и супружестве. Сосредоточься режиссер на чем-нибудь одном, глядишь, вышел бы шедевр. При запросе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Интернет выдает три ссылки – на одноименный фильм Мартина Скорсезе 1977 года и на два телесериала 1966-го и 1967 года производства. Отважные российские прокатчики, видимо, не испугались очевидной переклички с мюзиклом Скорсезе, их привело в трепет незнакомое слово «синекдоха», отдающее «синагогой», «дохой» и «анекдотом» одновременно. Если же учесть, что в мае в прокате появляется альманах короткометражных лент, объединенных под названием «Нью-Йорк, я люблю тебя», то определенная путаница этим релизам обеспечена. Режиссерский дебют самого оригинального и, возможно, единственного известного широкой публике сценариста Голливуда («Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума») неоригинально страдает от болезни, присущей чуть ли не всем амбициозным дебютантам, – им хочется высказаться обо всем сразу: о смерти, о любви, о детях, о современном искусстве, о старении, о творчестве, об импотенции, о болезнях, о сумасшествии, о доппельгангерах и статистах, в конце концов. Впрочем, в пересказе сюжет выглядит довольно просто, хоть и не без фирменного кауфмановского абсурда: стареющий театральный режиссер (Филипп Сеймур Хоффман) каждое утро просыпается с новой болячкой, читает некрологи в газетах, смотрит с маленькой дочкой телеканал, по которому показывают мультфильмы о смерти и супружеской измене, ходит на работу, где ставит «Смерть коммивояжера» Артура Миллера. На улице, кажется, сплошной столь любимый поэтами октябрь – «начало конца», а «выбор собственной смерти – непростое решение». Однажды унылый мир режиссера рушится: его бросает жена (Кэтрин Кинер), современная художница, рисующая микроскопические портреты обнаженных женщин, и уезжает в Берлин вместе с дочкой. Озверев от страха смерти и одиночества, режиссер заводит интрижку с продавщицей театральных билетов (Саманта Мортон), последняя живет в перманентно горящем доме (натурально, везде очаги возгорания и дым стеной).
Он выигрывает грант фонда МакАртура и решает поставить «важную, искреннюю и жесткую пьесу», непременно в Нью-Йорке. В грандиозной пьесе, название которой он никак не может придумать («Симулякр»? «Неизвестные, нецелованные и непотерянные»? «Тусклая луна освещает тусклый мир»?), он собирается проникнуть в суть каждого человека, для чего раздает всем актерам записки, «подобные той, что я каждое утро получаю от Бога». Текст в записках примерно такой: «Вы проснулись, у вас защемило в груди», «Вы посмотрели на жену как на незнакомку». Спектакль обещает быть невиданным по своему масштабу, а грант все никак не кончается, поэтому режиссер воздвигает настоящую модель Нью-Йорка внутри заброшенного склада. В репетициях проходит 17 (!) лет. Смерть – от старости или от несчастных случаев – все плотнее и плотнее сжимает свое кольцо вокруг режиссера и его труппы. Да режиссер и сам уже мертвец, живущий между двумя мирами, где сбита хронология, а поступки подчинены дьявольской абсурдной логике. За два часа хронометража перед глазами зрителя проходит жизнь не только главного героя (как, например, в «Загадочной истории Бенджамина Баттона»), но и даже второстепенных персонажей, в которых – а они постоянно меняются именами и стареют – несложно запутаться. Возникает множество соблазнов. Первый – воскликнуть: «Да это же новые «Восемь с половиной»!» Второй – рассмотреть картину как метафору современного мегаполиса, насыщенного и многогранного, третий – заглянуть, наконец, в словарь и выяснить, что такое эта самая синекдоха. Вдруг поможет раскрыть, так сказать, авторский замысел. Синекдоха – литературный троп, обозначающий смысловой перенос с частного на общее, название целого по его части. Говоря проще, когда говорят «я съел целую тарелку», подразумевают «я съел пищу, которая находилась в тарелке», а не саму тарелку.
Нью-Йорк для персонажа Филиппа Сеймура Хоффмана, потерявшегося и запутавшегося постановщика пьес, чье существование срослось в гигантскую мозаику с окружающими его людьми и персонажами (между первыми и вторыми зачастую нет никакой разницы), – это синекдоха той модели Нью-Йорка, в котором происходит действие спектакля и, в конечном итоге, его собственной жизни. «Все во мне и я во всем», – эта тютчевская фраза могла бы стать эпиграфом к фильму. Но Кауфман сознательно выбрал единственной отчетливой рифмой ко всему происходящему «смерть». Смерть и забвение. «Ты боролся за существование, а теперь ускользаешь из него… Раньше ты ехал – куда-то, откуда-то. А теперь тебе остается просто ехать. Отсчитывать время», – говорит голос в голове режиссера. Он же командует ему: «Умри».
|